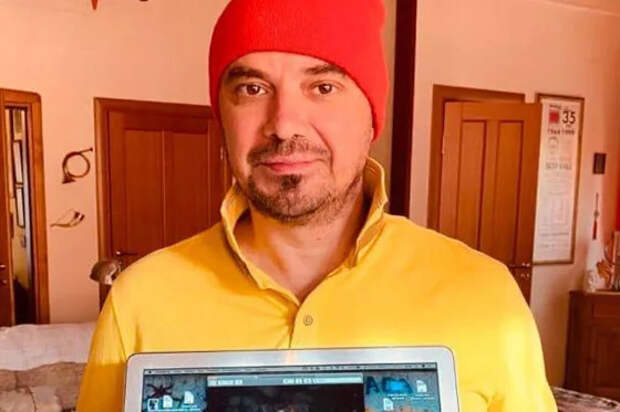
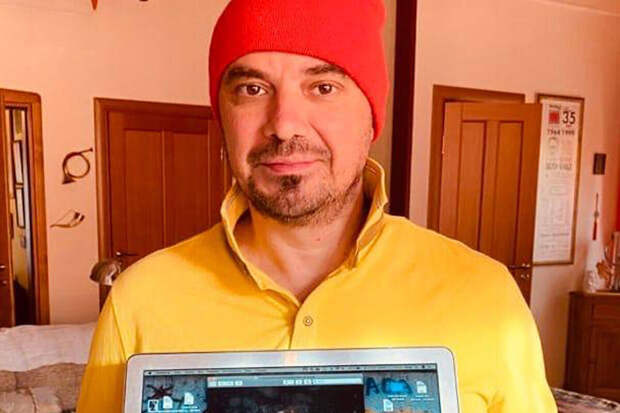
Русь проколола для
Сережки ухо,
Чтоб нашептал ей про
Святого Духа.
А он ругался ржавым бубенцом,
Начало жизни путая
с концом.
Дразнил гусей в наряде конопляном,
К мощам берез
прикладывался пьяным,
Прилаживал, как ложку к синяку,
Свой божий дар в Нью-Йорке и Баку.
С тех пор сто лет все пишут «под Сережку»,
Но попадают
только в молоко.
Все с ним хотят
в обнимку на обложку,
А не в кутузку в порванном трико.
Все ножничками волосы срезают
С его несбереженной
головы.
Питаются причудами молвы
И ничего о гении не знают.
— Влад, что главное ты чувствуешь в Есенине, поэте и человеке, сегодня?
— Есенин как русский человек сделал огромный рывок — когда он, никому не известный простой парень, постучал к Блоку и показал несколько текстов, тот удивился. А удивление — это, пожалуй, главное в искусстве: например, Есенин неровный, Есенин рваный в стихосложении, но вдруг каким-то божественным провидением являет нам в строчке удивление и убегает от вторичности. И это Блока задело — он дал Есенину рекомендацию к Городницкому, которая стала, можно сказать, путевкой в жизнь.
И эта неровность Есенина, попадавшая неведомым образом в русское сердце, и есть в нем самое главное. В то время рядом с ним были ребята с университетским образованием — Пастернак, Ахматова, Мандельштам, а это деревенщина, которому надо было дерзить. Но поэты в принципе драчуны, все они дерзят и нарываются. А в Есенине дерзость была в кубе. При этом он понимал, что нужно читать, впитывать, и его постижение знаний, когда он запоем читал курсы зарубежной литературы и прочее, мне очень симпатично в нем.
— Какое произведение Сергея Александровича для тебя является программным?
— Самое интересное для меня его произведение — «Ключи Марии». Совершенно необычное, невероятное, без стихов написанное. Как манифест, как декларация, символ веры. 23-летний человек пишет в 1918 году грандиозную культурологическую статью и начинает так: «Орнамент — это музыка». Он в этом произведении предстает просто как умнейший и очарованный русский мальчик.
— Именно русский?
— Да-да. Недавно по каналу «Культура» было исследование феномена: кто такие русские, каков их ДНК и что такого есть особенного в русском человеке? Я сейчас сделаю скачок во времени: когда Василий Макарович Шукшин выпустил свой фильм «Калина красная» (кстати, неровный, но ставший народным), то лопоухий зэк в документальных кадрах, которые использовал Шукшин, поет там Есенина — и этот напев отозвался во всем Советском Союзе. Напрямую, минуя все инстанции, тот Есенин у Шукшина попал в сердце, нашел какой-то ключ (не знаю какой) к русскому сердцу…
Ахматова, например, Есенина не понимала: мол, белиберду какую-то лубочную пишет. Кто-то над ним посмеивался, Маяковский — так себе его принимал. Но вот они сидят в бане в Ростове, и Есенин говорит Маяковскому: «Помните, у вас стихи Пушкину — «После смерти нам стоять почти что рядом: вы на «П», а я на «М». — «Да, помню», — отвечает Маяковский. И Есенин ему: «Только две буквы в алфавите стоят между этими буквами — НО». Вот какое внимание к языку, к слову было у него.
А про печень его я бы поговорил с врачами. Она была как раз не русская, а эскимосская.
— В каком смысле? И какое это отношение имеет к стихосложению?
— Потому что ему хватало 150 граммов, чтобы он дурел. А после двухсот — его легко заводили, типа: «Серега, выбей дверь» или «Вот эту барышню обидели», и он тут же лез на рожон. И многие этим пользовались. Он вообще, как мне думается, был человеком щедрым и добрым. Каким через поколение уже был Высоцкий.
— Однако, если судить по воспоминаниям Айседоры Дункан, которая вывезла его в Америку, щедрым он, во всяком случае к ней, уж точно не был. Увез оттуда несколько чемоданов с одеждой исключительно для себя.
— Куркуль такой, да? Крестьянский парень. Но он разным был. Высоцкий тоже… Мне как-то Валерий Золотухин рассказывал: за какую-то мелочь Владимир Семенович скандал учинить мог. Как-то они вместе выступали в Новокузнецке, и там им подарили два сувенирных топорика. И Золотухин топорик Володи отдал своим гостям, которые к нему пришли на концерт. Так Высоцкий отказался от золотухинского, хотя тот был таким же один в один, и потребовал: «Догони, дай мой топорик. Если не дашь, мы больше не друзья». И тот бежал по улице, останавливал, менял топорики, объяснялся… А параллельно Высоцкий мог снять куртку кожаную и подарить, перед этим немного выпив.
Есенин знал, каким каблуком нажать на слезное озеро у русского человека
— Есенин, на мой взгляд, состоял из двух кругов: первый — маленький круг его великих вещей, который народ в принципе не считывает, а второй — попсовый.
— «Выхожу один я на дорогу…»?
— В этом, кстати, любовь Есенина к Лермонтову, которого он очень любил. Зато такие вещи, настоящие, прорывные и корявые, как «Пугачев», — их нет в общем доступе. А ведь «Пугачев» — вершина имажинизма. Замечу, что образ Высоцкого в одной из лучших его песен «Мы вращаем Землю» («От границы мы Землю вертели назад…») пошел от есенинского Пугачева. И там каторжане крутят «землю от себя». Высоцкий, играя беглого каторжника Хлопушу, это запомнил и позже использовал в своем сочинении.
Всеволод Мейерхольд в 20-е годы ждал «Пугачева» от Есенина, хотел ставить, но когда прочитал, ужаснулся тому, с какой быстротой мелькают там герои, нет событий как таковых и не на чем отдохнуть, то есть нет переключений. Все время — какой-то кровавый омут. И вот Мейерхольд предложил Есенину что-то сократить, а тот отказался: «Ставь так или никак». И эта вещь, надо признать, долго никому не давалась, пока Юрий Петрович Любимов не посоветовался с товарищем Есенина, драматургом и баснописцем Николаем Робертовичем Эрдманом. И Эрдман предложил: «Давайте я напишу интермедии» — и написал три, которые переключали внимание зрителей с тотального мужского ора, некрофильских метафор… Выходила Инна Ульянова в роли императрицы, и это было пародийно; две интермедии оставил Любимов из трех и добавил куплетики, которые еще дописал Высоцкий. Получился театральный шедевр.
Я не хотел бы выглядеть эстетом, вспоминающим лучшие метафоры поэта, которые люди не считывают — в людей попала простая пронзительность. Есенин знал, каким каблуком нажать на слезное озеро у русского человека. И этим пользовался.
Мы недавно с поэтом Сашей Шагановым сидели на Президентском совете, посвященном русскому языку, и Саша говорит: «Проходит десять лет, и как черт из табакерки возникает новая песня на стихи Есенина для нового поколения». Какой-то призыв у него есть, апелляция к русской хандре. «Русская хандра им овладела понемногу» — непереводное. Есть один перевод «Евгения Онегина», где хандру назвали душой. И вот с этой русской хандрой Есенин умел обращаться как эквилибрист-виртуоз. Он умел упаковать русскую тоску в яркую обложку для молодежи. Да еще и девочки рыдают. И тебе уже не страшно рыдать, умирать…
— Есенин и власть — тоже тема.
— У меня тут есть такая догадка: Сталин не зря так придерживал Есенина, все время выставляя вперед Маяковского. Потому что Маяковский ритмичен, и когда ты утром идешь на завод с похмелья, то под Маяковского легче выдавать план на-гора. А Есенин такого не позволял: ты похмелишься — да и вообще не пойдешь на службу, махнув рукой…
Достоевский пишет, что русский человек — созерцатель. И вот это созерцание русского человека (либо пешком в Иерусалим, либо кого-нибудь топором) Есенин поймал. И Сталин это понимал. Есенин не туда заводил строителя коммунизма, когда нужны мобилизация, коллективизация и соборность. Только потом Есенин выплыл сам по себе.
Для меня невероятно то, что во всех квартирах моего детства, куда ни придешь, на косяках дверей висел фрагмент спиленной березы, и к нему прилеплен профиль Есенина из белой или черной пластмассы. Среди этого иконостаса я и бродил с детства. Вообще в домах висело изображение двух парней: Гагарина и Есенина. И я, маленький, спрашивал родителей: «Кто главнее?» И вот с этими березками, так же как и с иконами, случилось второе возвращение Есенина.
Сейчас мы присутствуем при третьем его возвращении. Когда Путин процитировал: «Если крикнет рать святая:/«Кинь ты Русь, живи в раю!»/Я скажу: «Не надо рая,/дайте Родину мою» — оказалось, что Есенин еще и невероятный патриот, который, как мне кажется, не был таким, будучи крестьянским хитрованом. Но его болтало из стороны в сторону. Мало кто знает, что когда он с Айседорой вернулся из Америки, то встал на колени и в буквальном смысле целовал булыжники, повторяя, что надо целовать русские камни. Об этом мне рассказала Лора Гуэра, отец которой дружил с Есениным, и именно он познакомил поэта с Зинаидой Райх.
Когда мы делали выставку в Есенин-Центре в Москве, я увидел фотографию человека с тремя орденами Красной Звезды на груди. Это был Константин Сергеевич Есенин. Я был ошеломлен, потому что из своего детства отлично помню на стадионах чудака на футбольных репортажах, у которого на кромке поля всегда брали интервью. Он обладал феноменальной памятью: мог с точностью до дня, часа и минуты вспомнить какой-то матч, забитый гол… Был футбольным статистом и предсказателем. «Я думаю, — говорил он, — будет 2:1, выиграет «Динамо» — и точно так случалось.
В детстве я не знал, что этот вполне себе симпатичный усатый дядька в очках — родной сын великого русского поэта Сергея Есенина. Но то, что у него три самых уважаемых ордена фронтовиков — Красной Звезды — представить трудно. То есть такое ДНК героя не только от Зинаиды досталось, но и от Сергея.
Сначала надо чуть не зарезать, чтобы потом до смерти любить
— Тебя как поэта не задевало, что твоего великого собрата по цеху свели к алкоголизму, хулиганству? Может, и не было такой уж беспросветной «Москвы кабацкой»?..
— Это всё раздражало, потому что такое упрощение получалось. Я же сказал про эскимосскую печень Есенина. Такого алкоголика не было. Мне кажется, что отчасти он и сам этому подыгрывал — и в конце концов заигрался. Если говорить о трагическом и страшном конце Есенина, для меня вопроса нет, как он закончил. Никакой конспирологии в его смерти нет — он просто заигрался.
Мало кто говорит, что поэт — очень театральный человек. В том смысле, что он сам себе театр. Недаром Горький был поражен тем впечатлением и влиянием его на публику, на женщин, когда они оба оказывались в одном помещении. Есенин невероятно читал стихи, люто любил…
— Что стоит за этим словом?
— Люто — значит, беспощадно. Сначала надо чуть не зарезать, чтобы потом до смерти любить. И вот Горький как человек-рентген увидел в Есенине самое главное. Он сказал: «Это не человек, а инструмент, орган, созданный для поэзии». Когда тот читал свои стихи, а потом раскрывал руки, у него проступала кровь: он ногтями впивался в ладони. Он то шептал, то заговоры, как волхв, говорил… Женщины, естественно, откидывались. Как у Высоцкого потом: «По ним бабьё с ума сходило,/И даже мужики». И кажется, что именно в таком состоянии он и заигрался. В том декабре, абсолютно сером, беспросветном, где нет ни солнца, ни любви, ни Руси — один тотально равнодушный Петроград. «В Петербурге жить, что в гробу лежать», — говорит Мандельштам, а при этом у него же: «Здравствуй, курва-Москва».
Вот если бы у Есенина тогда была курва-Москва, возможно, она бы его отогрела, взболтнула, и он дальше пошел бы, как бычок по досточке. А там, на серой тяжелой Неве, его никто не отогрел. Он был один, а поэтам нельзя оставаться в одиночестве. Потому что поэт — такая незащищенная конструкция, она очень опасной может быть.
Есенин злую шутку сыграл и с другими поэтами. Все бросились под Серегу косить, пить… Он же не на веревке оказался в номере «Англетера» — на чемоданных ремнях. Русский лютик. И следующие поколения уже складывают факты: для русского человека важно, чтобы на раннем вздохе произошла кончина, потому что надо оплакать, выпить, пожелать… Все время рядом баба-иностранка торчит, водка, кутежи. Ну и, конечно, нежность невероятная. Вот все составляющие — и поэт готов.
— Жизнь поэта после смерти…
— Поэт начинается не с того, где живет, когда читает стихи, и даже не тогда, когда уходит. Поэт начинается лет через двадцать после своей земной жизни. Стихия слова, с которой он входит во взаимодействие, довольно-таки опасна. Мы отличаемся от животных самым кардинальным образом тем, что рождаем слово, это божественная наша черта. А поэт толкает дальше язык. А гений — это явление, после которого нельзя так же жить, снимать кино, ставить спектакли, рисовать, как до него.
После Станиславского нельзя играть и ставить, как было до него. Или Ларс фон Триер снял свой «Догвилль» — понятно, что оператор уже не может смотреть в камеру как прежде. И Есенин в этом смысле — гений или нет? Бродский — точно творец языка. Маяковский и Пушкин — конструкторы языка. Является ли Есенин творцом языка? Наверное, нет. Но его невероятная способность подойти к мембране души русского человека — только русского человека — ни у Бродского, ни у Маяковского такого нет.
— И вот твое стихотворение о Есенине: «Русь проколола для Сережки ухо,/Чтоб нашептал ей про Святого Духа./А он ругался ржавым бубенцом,/Начало жизни путая с концом» — и так далее. Как оно пришло к тебе? Случайно упало или плод долгих размышлений?
— Открою секрет: я по собственной «третьяковке» хожу с красками и ластиком — то есть подхожу к своим работам как к эскизам. Я увидел недавно эскиз своей работы про Есенина, и меня вдруг осенило, что надо докрутить. Докрутил — и послал друзьям, тебе в том числе.
— И вот теперь вопрос, который следовало бы задать сначала, а не в конце беседы: с какой стати ты стал заниматься Есениным, когда рядом, в Театре на Таганке, был Высоцкий и все, что с ним связано?
— Один мой товарищ несколько лет назад неожиданно позвонил утром и спросил: «Ты не хочешь подумать, чтобы сделать Центр Есенина?» Но есть музей. А Центр Есенина, что на улице Чернышевского, надо сказать, разваливался. В 1996 году Светлана Николаевна Шетракова создала в Москве музей Сергея Есенина, правдами и неправдами пробивала его. Сестра поэта умерла на ее руках. Вокруг себя эта отважная женщина объединила серьезных дядек, которые в трудные 90-е не пожалели денег, чтобы возник музей. И она это делала так по-есенински люто, что никто не заметил: может быть, даже не на том месте стояла изба, куда Есенин приехал к отцу в мясную лавку. Но она убедила всех, что именно здесь и была эта лавка. И там построили избу.
Когда произошла смена руководства в музее, Светлану Николаевну, увы, не поблагодарили. И когда первый раз я пришел к ней, не было никаких предпосылок для любви между нами: она решила, что я пришел ее выгнать, а я подумал, что она не в себе. И вдруг мы начали читать друг другу Есенина, Пушкина, Блока… В результате нам удалось помойку, которая была рядом с особняком и избой, превратить в сквер поэтов. Мы сошлись и были с ней заодно. Теперь Есенин-Центр — это часть музея Есенина.
Свежие комментарии